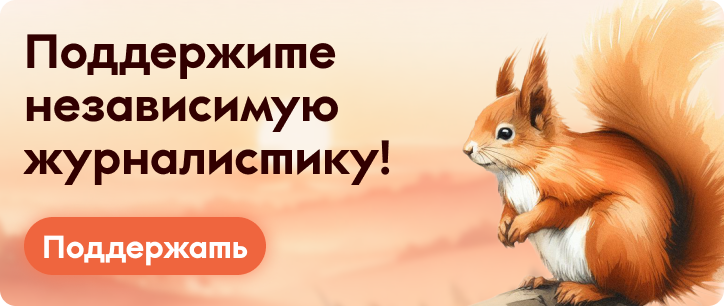ФСБ в июне 2025 года выдала 15 сотрудникам вузов из нескольких областей предостережения. Силовики заподозрили преподавателей в распространении материалов, пропагандирующих ЛГБТ-ценности по заданию нежелательного в России фонда Oxford Russia Fund. Одного человека они привлекли к административной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации.
Сотрудники, аспиранты и студенты вузов, поддерживающие квир-сообщество и занимающиеся исследованиями на ЛГБТК+ темы, сталкиваются с давлением: их увольняют и не допускают к защитам диссертаций, их научные работы не публикуют журналы. Негласный запрет на исследования в квир-области существовал до принятия законов о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» в 2022 году и признании ЛГБТ экстремистским движением в 2023 году. Однако до 2022 года он не распространялся на медицинские исследования трансгендерности.
Журналистка Светлана Бронникова для «7х7» изучила, как в российском научном сообществе устроена цензура исследований по квир-темам и почему узаконенная в науке гомофобия вредит в том числе людям, которые не относят себя к ЛГБТК+.
«Не хотят идти на риск»: редакции научных журналов не публикуют тексты, связанные с ЛГБТК+, и работы, в которых исследователи изучают трансгендерность с точки зрения медицинской терминологии
Яна Кирей-Ситникова в сентябре 2023 года отправила в редакцию журнала «Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева» научную статью о депатологизации трансгендерности в МКБ-11.
МКБ-11 — международная классификация болезней, расстройств, травм и других состояний здоровья. ВОЗ систематически пересматривает ее, последний раз это было в 2019 году. В новой версии организация обозначила трансгендерность термином «гендерное несоответствие» (раньше было «расстройство половой идентификации») и перенесла его из класса психических расстройств в раздел «состояния, относящиеся к сексуальному здоровью».
Редакция не опубликовала статью Яны, указав, что в Минздрав России еще не принял МКБ-11, так что статус раздела из статьи исследовательницы был не определен. Кирей-Ситникова предположила, что настоящей причиной отказа в публикации стала цензура.
Проверить эту гипотезу можно, подав на редакцию в суд, что и сделала исследовательница. Журнал ответил на исковое заявление, подчеркнув, что Кирей-Ситникова через статью продвигает интересы транслюдей, то есть занимается пропагандой ЛГБТ. Но девушка не испугалась:
— Хочу создать судебный прецедент, [доказав,] что занятие наукой не может быть предметом законов о пропаганде и экстремизме. Журналы ведь тоже не от хорошей жизни себя цензурят. В законодательстве отсутствуют четкие определения «пропаганды» и «экстремизма», что угодно можно подвести под статью, и редакции не хотят идти на риск. В случае положительного решения суда, я надеюсь, они будут меньше бояться.
Яна рассказала, что с 1972 года в России опубликовано не менее 400 научных работ и защищено не менее 28 диссертаций по вопросам трансгендерности:
— Однако с тех пор, как усилиями западно-ориентированных активистов нас [трансперсон] «присоединили» к ЛГБТ, начались проблемы (аббревиатура ЛГБ появилась в 80-х годах на Западе как альтернатива термину «гей-сообщество», в начале 90-х активисты добавили в нее транслюдей - прим. ред.). И это при том, что трансперсоны сталкиваются с трансфобией со стороны ЛГБ-людей и непониманием со стороны квир- и ЛГБТ-исследователей. Поэтому я не позиционирую свою работу как часть этих научных направлений, а говорю, что занимаюсь транс-исследованиями.
Кирей-Ситникова изучает трансгендерность с точки зрения медицины. Она проанализировала, как с 2015 по 2024 год менялось количество публикаций по транс-медицине и медицинской психологии в российских научных изданиях. После принятия гомофобных и трансфобных законов в 2022-2023 годах число публикаций пошло на спад.
По словам Кирей-Ситниковой, нельзя точно сказать, почему количество публикаций сократилось:
— Летом 2023 года гормональная терапия и хирургические вмешательства для транслюдей были фактически запрещены, логично, что эндокринологи и хирурги перестали заниматься научными разработками в этой области, то есть это не обязательно цензура на уровне журналов. Еще есть самоцензура, когда люди думают, что статью опубликовать будет невозможно, поэтому не пишут ее или сразу направляют в англоязычный журнал.
Яна отметила, что цензура есть не только в российских изданиях: в России она имеет консервативную направленность, а на Западе — ультралиберальную (давление на свободу и инакомыслие оправдывается заботой о равенстве). Например, Кирей-Ситникова в 2021 году в соавторстве написала статью об экономической неэффективности вагинопластики для трансженщин. В некоторых странах процедура включена в госпрограммы здравоохранения. Яна предполагает, что редакция иностранного журнала до сих пор откладывает публикацию, опасаясь обвинений в трансфобии, если из-за статьи государства пересмотрят финансирование транс-переходов.
Российские издания цензурировали тексты на квир-темы и до принятия гомофобных законов. Исследовательница и преподавательница Елена первый раз получила отказ в публикации статьи в 2020 году. Это был высокорейтинговый журнал по гуманитарному направлению. Редактор написал: работа хорошая, но издание не хочет проблем с властями, и Елена не первая, кто получил отказ.
Редакция другого известного журнала отказала без объяснения причин.
— Когда гомофобные законы приняли, все стали бегать: «Ой, какой кошмар». Моя реакция на это была другая — я говорила: ребятки, подержите мое пиво, я уже с этим встречалась неоднократно и намного раньше. Мне отказывают в публикациях, в 2023 году начали отказывать и в участии в конференциях.
Исследовательнице Ангелине удалось опубликовать несколько статей об ЛГБТК+ в российских научных журналах в 2023 году:
— Не каждый журнал сейчас пропустит такую тему, но, что характерно, один из журналов, в котором я публиковалась, издает тот институт, в котором я не смогла защитить кандидатскую. Такой парадокс. У меня сложилось впечатление, что все зависит от конкретных людей. Если на местах есть люди, заинтересованные в науке, они готовы брать на себя риск и публиковать такие вещи.
Коллежанке Ангелины повезло меньше — в 2022 году, после принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ, девушка узнала, что ее перевод статьи о квир-женщинах подвергли ретракции, то есть отозвали. Обычно под ретракцию попадают статьи с серьезными ошибками в исследовании. Их отменяют и запрещают цитировать.
«Хорошая власть для независимых университетов совсем не обязательна»: почему в России квир-наука не смогла стать отдельной дисциплиной
С начала 1990-х годов на базе российских вузов появлялись независимые центры гендерных исследований. Они были в Новосибирске, Барнауле, Иванове, Самаре, Твери и других городах. Их сотрудники в основном изучали положение женщин. Вопросы, связанные с квир-сообществом, затрагивались редко.
Несмотря на наличие таких центров, людям, изучающим гендерные дисциплины, часто было негде получить знания. Курсы по гендерным дисциплинам в вузах были редкостью.
После начала войны в Украине администрации вузов стали либо закрывать, либо переименовывать курсы по гендерным дисциплинам. В сентябре 2023 года в Высшей школе экономики курс по гендерным исследованиям стал называться «Женские и мужские исследования».
Некоторые независимые научные сообщества, изучавшие гендерные дисциплины, были ликвидированы еще до 2022 года. На это повлияло принятие закона об иноагентах в 2012 году. Уже через год, в 2013 году, в реестр НКО-иноагентов попал Саратовский центр гендерных исследований, через два года — Самарский, в 2021 году — Ивановский. Саратовский и Самарский центры прекратили свою работу.
Иллюстрация «7х7»
В России так и не появилось научного направления, посвященного квир-исследованиям. Виновата не цензура. Исследования в области ЛГБТК+ не воспринимались самим научным сообществом как что-то важное, достойное отдельной дисциплины или спецкурсов.
Чаще всего научные работы, связанные с ЛГБТК+, делали некоторые студенты или исследователи. В том числе на независимых площадках или в тех институциях, которые даже внутри академического сообщества не заявляли публично, что занимаются этой темой, рассказала «7х7» гендерная исследовательница Анна Ерошенко. В основном работы на квир-темы в России были связаны с гуманитарными науками — социологией, политологией и т.д.
— Еще до войны, в относительно сытые благополучные времена, когда российская наука позиционировалась как большая вольница, само академическое сообщество не жаловало ни гендерные, ни ЛГБТК+ дисциплины, — сказала Ерошенко. — В академии было много консервативных людей. Они не горели желанием выделять такие направления как отдельную дисциплину со своими лабораториями, курсами или образовательными программами или кафедрами.
Это подтвердил «7х7» кандидат филологических наук Андрей Костин. Он преподавал в петербургской Высшей школе экономики с 2018 по 2023 год, в том числе предлагая в своих курсах по русской литературе XVIII века подход к ней через квир-чтение (выявление в тексте скрытых аспектов, связанных с квир-идентичностями и опытом, которые могут быть не очевидны при традиционном прочтении). Научное комьюнити воспринимало подобную работу с текстами как маргинальную, «не отвечающую ни на какие вопросы».
В самом вузе Костин не сталкивался с цензурой, а его студенты, писавшие работы на квир-темы, получали хорошие оценки на выпускной комиссии.
— Если бы не началась война и не последовало ужесточение законодательства, то, в принципе, у этой интерпретативной квир-литературной науки было бы довольно неплохое будущее, — сказал Андрей Костин. — Появлялись люди, которые этим интересовались, которые смогли бы дальше сделать из этого серьезную науку.
Представление, что квир-исследования не важны, у научного сообщества сложилось в том числе и из-за опыта жизни ученых в Советском Союзе — однополые отношения были запрещены законом и не попадали в область научных интересов. В 90-е, когда коммунистический режим пал, многим исследователям не хотелось возвращаться к левым идеям в научных работах — например, изучать вопросы неравенства и дискриминации социальных групп, то есть распространенные проблемы, с которыми сталкиваются квир-персоны.
Исключением была клиническая медицина, в рамках которой изучалась трансгендерность. Известные российские психиатр Арон Белкин и сексолог Игорь Кон работали с темами сексуальности еще в Советском Союзе. Правда, например, Белкин не относил трансгендерность к норме (что неудивительно для того времени).
На низкую заинтересованность в ЛГБТК-исследованиях в современной России влияла и гомофобия в университетах. Историк и социолог Дмитрий Дубровский объяснил, что выжить в российском вузе — неважно, столичном или региональном — и квир-студентам, и квир-преподавателям можно было, если они соблюдали два правила: не реагировали на гомофобию публично и не делали каминг-аут.
— Если ты говоришь о своей ориентации или участвуешь в акциях или пикетах, тебя уволят, — прокомментировал Дубровский. — Какое-то время можно было быть активистом и преподавать в российском вузе, но после 2012 года это стало невозможно.
«7х7» насчитал шесть случаев в период с 2013 по 2025 год, когда преподавателей вузов уволили из-за поддержки ЛГБТ. Дубровский сказал, что ситуаций, связанных с увольнением преподавателей из-за их сексуальной идентичности или высказываний в защиту квир-сообщества, в разы больше, но эти случаи не доходят до СМИ - люди не хотят публичности.
— Часто причастность к ЛГБТ администрация вуза или школы использовала для сведения личных счетов, — пояснил Дубровский. — Дирекция считала поведение преподавателя неправильным, но уволить было не за что, а тут появлялся повод.
Такое положение самих квир-преподавателей и неустойчивость гендерных дисциплин в российских университетах гендерная исследовательница Анна Ерошенко объяснила прямой зависимостью образовательных институций от государства. В России государство — единственный заказчик академического знания, но на самом деле «хорошая власть для независимых университетов не обязательна». В США и европейских странах заказчиками исследований часто становятся внешние организации — бизнес, культурные институции или независимые фонды.
— Гендерные исследования в западной академии во многом развивались с учетом университетской автономии, которая как раз достигалась за счет самофинансирования университетов или финансирования их со стороны коммерческих заказов, — рассказала Ерошенко.
Иллюстрация «7х7»
В России такая система не прижилась — частные университеты, как и центры гендерных исследований, были зависимы от грантов и доноров, в том числе не российских (государство и крупные бизнесы не выделяли на подобные исследования деньги), но с появлением закона об иноагентах в 2012 году иностранное финансирование стало токсичным, несло риски. Само государство с этого времени только усиливало контроль над университетами — особенно в гуманитарной сфере.
Представители гуманитарных наук, по словам Ерошенко, активнее вовлекаются в политическую жизнь. Философия, политология, социология и другие науки исследуют и политические режимы, и положение общества в этих режимах, что неразрывно связано с анализом и интерпретацией поступков действующей власти. Государство боролось с этим, в том числе увольнением преподавателей за участие в митингах.
— Это все показывает, чего на самом деле власть боится, — заключила Ерошенко. — Так уж вышло, что гендерные исследования тоже относятся к этой области «запретных» наук.
«Тебе давали понять, что с этой темой не в наш совет»: цензура квир-исследований в современной науке была и до принятия гомофобных законов
Сотрудник университета из Южного федерального округа в начале 2010-х попросил историка и социолога Дмитрия Дубровского написать рецензию на монографию, в названии которой фигурировал термин ЛГБТ. Это была кандидатская диссертация, которую автор не мог защитить в своем регионе несколько лет. Научному руководителю пришла идея защиты через монографию. Но даже на опубликованный текст никто из научного сообщества в регионе не захотел написать отзыв. Пришлось обратиться к столичным исследователям. Собрав отзывы, кандидатскую удалось защитить.
— Человек, который обратился ко мне за отзывом, был главой ученого совета и отцом автора исследования, — рассказал Дубровский. — То есть уже в начале десятых была такая система, что даже глава ученого совета не мог через собственный совет продавить научную работу своего ребенка, потому что в формулировке фигурировала тема ЛГБТ.
По словам Дубровского, все зависело от людей на местах. В научных советах были и исследователи с гомофобными взглядами. В России с начала 2010-х годов сложилась система разделения вузов: несколько образовательных заведений, которые находились преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, готовы были допустить до защиты кандидатские диссертации на квир-темы, остальные старались не делать это.
— Был прямой запрет, который нигде не публиковался, — объяснил Дубровский. — Тебе давали понять, что с этой темой не в их совет. И люди, в общем, очень долго мыкались, по итогу уезжая либо в Москву и Санкт-Петербург, либо в Европу.
В одном из петербургских вузов, еще до принятия гомофобных законов, Ангелина (она в 18 лет уехала из родного уральского города и поступила на гуманитарную специальность) защитила магистерскую диссертацию на тему квир-активизма в России. К теме она пришла через саморефлексию, связанную с ее бисексуальной идентичностью:
— Мне было интересно читать академические статьи про ЛГБТ-людей, и я думала, что это важно и нужно, в какой-то момент поняла, что сама хочу такое писать.
После защиты Ангелина продолжила исследование в аспирантуре. Найти научного руководителя оказалось несложно — преподаватель ничего не знал о квир-теории (критическая идея, которая изучает гендер и сексуальность и говорит, что они не являются строго предопределенными биологией, а зависят от общественных и культурных норм и иерархий), но тема кандидатской его не смутила. Ангелине он помогал с социологической частью — выбирать методы исследования, анализировать информацию. Специализированную литературу по квир-исследованиям аспирантка искала самостоятельно.
— Снобски прозвучит, но я училась в одном из лучших университетов в стране, у нас не было проблем с тем, чтобы писать про ЛГБТ, — рассказала Ангелина. — У старших преподавателей могла проскользнуть какая-то бытовая гомофобия, не агрессивная — не на уровне даже вопросов, а просто замечаний типа «у меня есть знакомые пара геев, ну у них все как в обычной гетеропаре — один женскую роль играет, второй мужскую». И все.
Между деканом факультета, где училась Ангелина, и главой диссовета была устная договоренность: защитим кандидатскую без гомофобии. Но в декабре 2022 года, когда Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ, все изменилось.
Ангелина поговорила с людьми из разных диссоветов, и все ей сказали, что защитить кандидатскую она не сможет. Студентка поступила дистанционно в европейский вуз, где и планирует защитить написанную в России диссертацию.
Исследователь из Приволжского федерального округа рассказывал Дмитрию Дубровскому, как в середине 2010-х защищал магистерскую диссертацию в вузе своего региона, а представители ученого совета хихикали и шептались: «Он пишет диссертацию про голубых*».
Иллюстрация «7х7»
В других вузах этого же федерального округа ситуация была иной. В одном университете в конце 2010-х преподаватель предлагал студентам список тем, некоторые были посвящены ЛГБТ (одна из тем касалась отношения разных возрастных групп к квир-сообществу). Студентка, которая писала работу по квир-теме, рассказала «7х7», что не сталкивалась с гомофобией в университете. Другая студентка тоже училась в вузе Приволжского федерального округа и писала статью, связанную с квир-людьми. Она сказала, что работу опубликовали «в обычном режиме, не было никаких проблем и конфликтов». Эти исследования были написаны на бакалаврской ступени обучения.
«7х7» нашел исследователей, которым удалось до начала войны защитить кандидатские диссертации на квир-темы в региональных вузах, но они не ответили на сообщения журналистки.
Художник с творческим псевдонимом Гоша из Тюмени поступил в аспирантуру местного вуза в 2021 году, чтобы «получить больше академического бэкграунда». Он работал с квир-художниками и сам делал комиксы — это и стало темой его диссертации.
— Тюменское квир-искусство никак не было представлено в академической среде, а мне хотелось изучить, как оно зарождалось, какие у него есть традиции и как эти традиции отражаются в художественных практиках. Мы ведь не работали с чем-то чуждым или непонятным, мы работали в рамках достаточно давно существующей традиции.
Проблемы появились, как только Гоша озвучил тему диссертации научному руководителю. У того, по словам художника, был образ современного человека, который живет в «левом крыле политической мысли». Он приехал в университет из Москвы, вел лекции на популярных среди либеральной публики российских образовательных платформах.
— Когда я ему озвучивал, какие проекты хочу делать, он сказал, что мое исследование — это чудачество. Мне было странно это слышать от достаточно именитого академика с прогрессивными взглядами, — рассказал Гоша. — Но я не придал этому значения, подумал, что он меня проверяет.
К началу 2022 года Гоша понял, что «шансы написать диссертацию под руководством этого научрука стремятся к нулю». Во время частного разговора с преподавателем аспирант объяснял, что планирует сделать образ дрэг-квин — это будет практической частью его исследовательской работы. На что научный руководитель спросил, нет ли у аспиранта шизофрении:
— У меня все время было ощущение, что со мной говорят как с пятиклассником, что человек совершенно не воспринимает меня серьезно. И мои попытки донести мысль, суть проекта, наталкиваются на вот такое отношение, что я какая-то назойливая муха, которую можно отогнать.
По воспоминаниям Гоши, одногруппники и преподавательский состав, когда слышали, как мужчина общается с ним, были удивлены такому поведению. Гоша связал отношение научного руководителя с проявлением гомофобии.
Гомофобия касалась и относительно свободных столичных вузов. Например, студентка московского вуза Кристина рассказала, что в 2021 году у нее был конфликт с преподавателем относительно темы ее бакалаврского исследования. Студентка изучала политические предпочтения квир-людей — написала об этом курсовую работу, а после приступила к диплому. В вузе был всего один преподаватель, который специализировался на гендерных исследованиях, поэтому все студенты с такими темами шли к нему. Помимо Кристины в ее группе было еще два человека, которые писали исследования на стыке с квир-тематикой.
На одном из курсов по методологии исследований преподаватель этой дисциплины доказывал Кристине, что в России нет такой социальной группы, как ЛГБТ, соответственно, дискриминации квир-людей не существует.
— Мне пришлось доказывать, что в России есть ЛГБТ и они сталкиваются с дискриминацией, — рассказала Кристина. — При этом в самом исследовании у меня об этом говорили и респонденты, и я приводила научные данные. Вся моя группа хихикала над этим преподавателем, а меня после предзащиты успокаивали.
Защита, по словам Кристины, прошла спокойно.
Эзре (персона использует местоимение мы/они) повезло меньше — они учились в том же вузе, что и Кристина, но на другом факультете. Эзрина защита бакалаврской работы выпала на 2023 год. Им пришлось убрать из названия исследования слово «квир» и не использовать его в аннотации.
Научный руководитель Эзры рассказал, что на защите и на научных конференциях они столкнулись с аудиторией, не готовой к пониманию проблемы:
— По-хорошему, требовалось сначала читать две часовые лекции, которые бы объясняли контекст, в котором мы работали, а потом уже проводить выступление по научной работе.
«Пропаганда 100%, ведь вы ЛГБТ не хулите»: как цензура в науке влияет на жизнь граждан
На Дэвида осенью 2023 года сотрудники полиции составили протокол о распространении ЛГБТ-пропаганды в VK. Дэвид пришел на кафедру прикладной лингвистики в пермский вуз - местные преподаватели были в списке экспертов, которые могут проводить судебно-лингвистические экспертизы. Экспертка с кафедры посмотрела посты и сказала, что в них «100% пропаганда, ведь вы ЛГБТ не хулите».
— Это даже не цензурирование научных работ, а попрекание самих научных истин с точки зрения лингвистики, — сказал Дэвид.
Его история — пример, как наука влияет на жизнь обычного человека. Кандидат филологических наук Андрей Костин объяснил, что социолингвистические эксперты строят свои анализы на научных трудах коллег. Чем чаще в научном поле появляются материалы, утверждающие, что ЛГБТ — это разрушающая идеология, тем выше вероятность, что эксперт будет ссылаться на такие тексты.
Дмитрий Дубровский в начале 2010-х занимался судебными экспертизами. Он рассказал, что в некоторых случаях следователи не возбуждали дело о разжигании розни, если, например, кто-то избил квир-человека или его союзника, потому что эксперты утверждали: ЛГБТ — это не социальная группа. А раз так, то невозможно в отношении нее разжигать вражду и ненависть.
— Чем меньше сообщество находится в научном поле, тем меньше оно существует как предмет критики и рефлексии и среди ученых, и среди граждан, — пояснил Дубровский. — Грубо говоря, нет квиров — нет проблем. В публичном пространстве ЛГБТ-персон нет, потому что публичное выступление власть начала приравнивать к пропаганде. И одновременно в научном пространстве квир-сообщество тоже исчезает. Получается ситуация, что мы группу не изучаем, потому что ее якобы не существует. А если кто-то начинает ее изучать, то ему сразу дают понять: это не тема, с которой можно сделать себе научную карьеру, это не тема, с которой можно публиковаться.
После принятия гомофобных законов количество опубликованных текстов, посвященных квир-темам, значительно сократилось — причем как в количественном, так и в качественном отношении.
«7х7» проанализировал публикации на сайте российской научной библиотеки «КиберЛенинка». В базу «КиберЛенинки» попадают статьи, опубликованные в том числе в низкорейтинговых научных журналах. Однако для анализа «7х7» взял этот портал, потому что он дает возможность читать полные тексты работ.
Журналистка выбрала публикации за 2016, 2020 и 2024 годы. В 2016 и 2020 еще не были приняты большинство гомофобных законов, это позволяет зафиксировать «норму» научного подхода до вмешательства государства. В 2024 году гомофобные законы уже действовали. Сравнение этих трех периодов показывает, как и в каком направлении трансформировалось научное поле в области квир-исследований.
По словам Дмитрия Дубровского, резкий скачок в публикации гомофобных материалов объясняется тем, что власть на законодательном уровне признала: у квир-людей в России нет прав. Это развязало руки людям, в том числе и исследователям, которые считали гомофобию нормой.
— Гомофобии в России среди образованного класса ничуть не меньше, чем среди необразованного, — пояснил Дубровский. — Другое дело, что в тех местах, где люди как-то понимают, что быть гомофобом некрасиво, они все-таки сдерживали себя.
Человек, занимающийся наукой или образованием, может быть хорошим специалистом в своей области и в то же время придерживаться гомофобных взглядов. В нормальной ситуации, по мнению кандидата филологических наук Андрея Костина, такой исследователь заходит на ресурс с научными работами и не находит гомофобных статей, потому что они «не пройдут через систему рецензирования - как правило, такие тексты не выдерживают академической критики». Другими словами — такой человек не найдет подтверждений своим взглядам в авторитетных источниках.
После принятия гомофобных законов ситуация изменилась. Человек сам может писать гомофобные статьи и быть уверенным в своей правоте. Такие люди могут преподавать в школе и проецировать свои убеждения на детей. Также люди с гомофобными убеждениями могут входить в комиссию Минпросвещения, где эксперты формируют программу обучения и воспитания, влияют на содержание уроков и определяют, кто может работать в школе, а кто нет.
— Нет катастрофы, если человек с гомофобными взглядами выскажет свою точку зрения на то, как должна выглядеть школьная программа и кто может быть учителем, а кто нет, — пояснил Костин. — Ведь люди с другими ценностями объяснят ему, что допустимо, а что нет. Когда же комиссия в большинстве состоит только из людей с гомофобными взглядами, то и ограничивать их некому. А если кто-то и мог бы, то это становится неудобно или опасно.
Вводя цензуру, государство изолирует российское научное сообщество от мирового, студенты и преподаватели начинают избегать опасных тем, появляется самоцензура. При этом научные работы становятся однобокими, потому что не раскрывают разные стороны исследуемой проблемы, соответственно, из-за этого падают академические стандарты.
«Рано или поздно меня все равно посадят»: что планируют делать исследователи, столкнувшиеся с цензурой
У Яны Кирей-Ситниковой, чью статью редакция научного журнала отказалась публиковать, обвинив исследовательницу в пропаганде ЛГБТ, два шведских диплома наряду с дипломом МГУ. Она может писать научные работы на английском языке и публиковаться в международных высокорейтинговых журналах. В России ее «объективно ничего не держит», но она продолжает работать в поле российской академии и изучать трансгендерность:
— Я люблю свою страну и хочу, чтобы все люди в ней могли жить достойно и получать необходимую медицинскую помощь, поэтому вопреки тренду продолжаю писать по-русски и встраиваться в российские научные структуры.
Темы исследований Кирей-Ситниковой вытекают из ее собственного опыта жизни как трансчеловека:
— Мне «повезло» с трансовостью, потому что транс-исследования в России и на постсоветском пространстве — это поле непаханое, можно выбирать любую тему с уверенностью, что до меня ее серьезно никто не изучал.
Кирей-Ситникова собирает научную базу, чтобы однажды добиться отмены закона «о запрете смены пола человека», потому что «высказывания самих транслюдей и правозащитников — это одно, а когда закон противоречит доказательной медицине и мнению экспертов-врачей — это более весомый аргумент».
Иллюстрация «7х7»
Гоша из Тюмени отчислился из университета и покинул Россию, как только началась война в Украине. Он продолжает заниматься квир-проектами, но не уверен, будет ли продолжать научное исследование.
Ангелина заканчивает учебу в европейском вузе и готовится получить докторскую степень. Она не знает, что делать дальше. Вместе с коллежанкой она начала новый исследовательский проект, посвященный эмиграции квир-людей. Уезжать из России Ангелина не хочет:
— Я понимаю, что, занимаясь исследованиями на квир-темы, в России сейчас невозможно построить карьеру, поэтому дома я тихо существую. У меня идеалистическое представление: сейчас я нарабатываю свои скиллы, опыт, а потом со своими знаниями буду преподавать в Прекрасной России будущего и поднимать с нуля гендерные исследования обратно, потому что они тут все выкорчеваны. Такие у меня мечты.
Если бы Ангелине предложили преподавать в российском вузе, она бы согласилась. Во-первых, даже в нынешней системе образования, по ее мнению, ничто не запрещает хотя бы упоминать некоторые работы, затрагивающие гендер. Во-вторых, исследовательница хочет преподавать на русском языке и в России:
— Я могу преподавать и по-английски, но мне кажется, что людям в России курсы по гендерным дисциплинам важнее. Западные студенты прекрасно обойдутся без меня, англоговорящих преподавателей по гендеру много, а вот в России — нет. И хотелось бы пригодиться на родине в такой момент, потому что интерес к гендерным исследованиям есть, хотелось бы, чтобы студенты хотя бы знали, что и где можно посмотреть, чтобы получать знания в этой дисциплине.
Продолжает заниматься наукой в России и Елена, несмотря столкновения с цензурой с 2020 года. После начала войны в Украине она не смогла найти работу за рубежом — специалистам по ее научному направлению сложнее интегрироваться в европейскую или западную академию. Когда друзья и знакомые спрашивают у Елены, не страшно ли ей изучать квир-темы, она отвечает: «Рано или поздно меня все равно посадят, главное — понять за что».
— Если условная Анна Коробкова (серийная доносчица, за два года с февраля 2022 она написала более 1300 доносов на россиян; скорее всего, за именем Коробковой скрывается уральский историк Иван Абатуров - прим. ред.) захочет написать на меня донос, я ничего не смогу с этим сделать, — сказала Елена. — Но я не перестану писать о том, что мне интересно.
* "7х7" осуждает использование оскорблений и дискриминирующей лексики